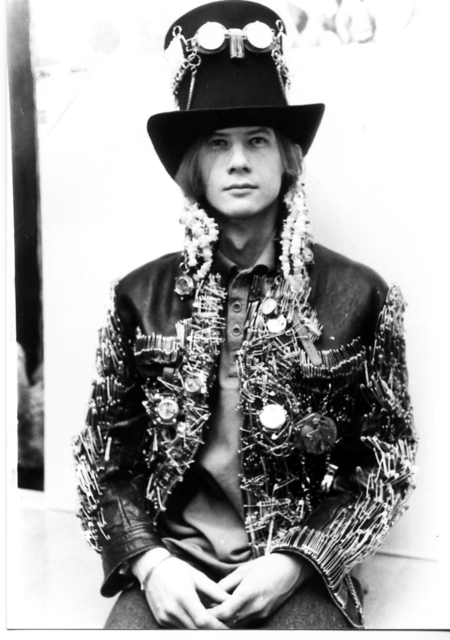Дискуссия «Архивы моды: взгляд куратора и исследователя»
12 сентября 2024 года в Creative HUB Школы дизайна НИУ ВШЭ состоялась дискуссия «Архивы моды: взгляд куратора и исследователя», посвященная теме моды в стенах музеев и культурных институций и специфике работы с модными архивами. Архив российской моды публикует расшифровку разговора.
Участники дискуссии
Людмила Алябьева Кандидат филологических наук, академический директор Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, шеф-редактор журнала «Теория моды: одежда, тело, культура», руководитель проекта «Архив российской моды», сокуратор выставки «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993-2005».
Светлана Сальникова Студентка Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, дизайнер одежды, исследовательница проекта «Архив российской моды», сокуратор выставки «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993-2005».
Александра Тумаркина Культуролог, куратор выставок и публичных программ в Доме культуры «ГЭС-2», участница кураторской группы программы «ГЭС-2 Города», сокуратор выставки «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993-2005».
Валерия Парфёнова Журналист и коммуникационный консультант, автор телеграм-канала «Сделай лицо попроще» и блога STRAIGHTFACE.MEDIA, ex-редактор моды InStyle.

Слева направо: Елена Ермаковишна, Светлана Сальникова, Людмила Алябьева, Мария Терехова, Антонина Трубицына, Валерия Парфёнова, Александра Тумаркина
Антонина Трубицына Искусствоведка и арт-терапевтка. Хранительница архивных фондов в Музее «Гараж», составительница книги «Открытые системы. Опыт художественной самоорганизации в России. 2000 — 2020». Исследует стратегии женщин в художественной среде.
Мария Терехова Историк моды и культуры. Старший научный сотрудник Государственного Музея истории Санкт-Петербурга. Постоянный автор журнала «Теория моды». Автор-составитель нескольких музейных каталогов, в том числе коллекции обуви XIX–XX вв.
Елена Ермаковишна Искусствовед, руководитель HSE CREATIVE HUB и проекта LongFashionWeekend Ural, выпускница Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ
Людмила Алябьева (далее — Людмила): Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы возвращаемся после каникул к нашему любимому жанру интеллектуальных бесед. Сегодня мы обратимся к теме архива, которым занимаемся, кажется, уже полжизни, но, как я сегодня поняла, всего год [улыбается].
Замечаете ли вы сегодня, что исследователи, кураторы и широкая публика стали больше интересоваться архивами моды? В чем это выражается? Не сходит ли это на нет, как любой тренд? И тренд ли это?
Светлана Сальникова (далее — Светлана): Конечно, я, как исследователь проекта «Архив российской моды», могу сказать, что интерес есть и только возрастает. Кажется, что мы на самом деле его подогреваем: когда мы начинали проект, мы приходили к дизайнерам и сами не до конца понимали, что же мы от них хотим, только начинали формулировать ответы на эти вопросы: зачем нужны архивы, зачем их собирать и что с ними дальше делать.
Экспозиция выставки «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993-2005». Фото: Даниил Анненков © Дом культуры «ГЭС-2»
Светлана: А сейчас, когда уже проведена выставка [Прим. АРМ: «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993–2005» проходила в ГЭС-2 с 6 июня по 7 июля 2024], когда мы поговорили с более чем 40 респондентами, среди участников [модной индустрии 1990-2000-х] уже пошла некоторая молва о том, что проект существует. Понятно, что людям — и дизайнерам, и редакторам журналов — как минимум интересно вспоминать это время, хочется его сохранить, и становится ясно, что в нем были важные моменты, которые могут быть полезны для студентов, исследователей и широкой публики.
Людмила: Спрос рождает предложение [улыбается].
Александра Тумаркина (далее — Александра): Я бы добавила, что этому тренду уже достаточно много времени: мы делали еще в прошлом году публичную программу в ГЭС-2, которая называлась «Упоение архивом».
Когда мы открывали ГЭС-2 [в 2021], у меня появились первые мысли, планы и мечты на тему моды. Именно архивный поворот— как в популярном дискурсе, так и в исследовательском — был моей первой мыслью и первым интересом. Мы, безусловно, живем во время демократизации знаний, которую нам подарили социальные сети.
И вот новое молодое поколение экспертов взялось за архивы достаточно рьяно, и это подогрело интерес общественности больше, чем это мог бы сделать любой [отдельный] исследователь или институция. Мы можем быть только благодарны за подготовленную почву: к нам на выставку пришел зритель, который уже понимает, почему это интересно, почему это ценно.
Валерия Парфёнова (далее — Валерия): Мне кажется, что в каждом десятилетии есть это упоение прошлым, когда дизайнеры оглядываются назад, пытаются перепридумать что-то на основе старого материала. Например, сейчас в основе этого интереса лежит потребность в чем-то, что вызывает ностальгию. Отсюда — обращение к предыдущему поколению, к опыту родителей.
На мне сейчас кроссовки — это переиздание 70-х годов модели бренда Puma. Массовый производитель подсматривает эти практики за кутюром, который активно обращается к своим архивам. Мы видим, как модные дома переиздают что-то: если это не архив и не винтаж, то это новая версия. За последние 5-7 лет прошло много выставок с архивными образцами моды: и про 1997 год [Прим. АРМ: В 2023 году в парижской Palais Galliera открылась выставка «1997 Fashion Big Bang» о том, как 1997 год изменил моду], и архив Аззедина Алайи [Прим. АРМ: В 2018 году прошла выставка архивов Аззедина Алайи «Je suis couturier» в студии дизайнера в парижском квартале Маре].
Валерия: Кажется, все оглядываются назад в моменты турбулентности, как будто в этом больше опоры: новое поколение дизайнеров будто не готово дать такой импульс для развития, и хочется обернуться назад. С точки зрения наблюдения за модным процессом это, наверное, ключевое: обращение назад как способ найти опору.
Людмила: Такая форма эскапизма.
Валерия: Да, классическое романтическое двоемирие.
Людмила: Антонина, как мы выяснили, интерес к модным архивам начался довольно давно, а как обстоят дела с искусством — когда вы с коллегами к ним подступились?
Антонина Трубицына (далее — Антонина): Архив российского современного искусства в музее «Гараж» появился в 2012 году. Я пришла туда работать в 2015 и все еще не могу уйти [улыбается].
Людмила: Упоение архивом не проходит!
Антонина: Да, архив затягивает, и я думаю, что вы сами это чувствуете [улыбается]. В принципе, это продолжение глобальной тенденции — архивного поворота, который произошел в западноевропейском и американском искусстве.
Появилось много институциональных архивов: музеи рассказывали про себя, про свою историю. Естественно, «Гараж» как институция тоже начал собирать свой личный архив и архивы искусствоведов, архивистов, кураторов, художников.
Антонина: Поначалу было довольно странно, многие люди не понимали, зачем это нужно: ведь есть РГАЛИ [Прим. АРМ: «Российский государственный архив литературы и искусства»] и другие государственные архивы. Но у нас была ставка на то, что мы публикуем архивы онлайн; люди видели, что их материалы появляются и доступны исследователям, — это, конечно, стало большим преимуществом.
Архивный поворот распространяется, и все хотят архивировать, и у нас сейчас несколько десятков партнеров из разных городов России, которые собирают архивы искусства в своих городах. Мы их поддерживаем, предоставляем приложения для работы, обучаем в архивной школе.
Мне кажется, работа с архивом — медитативная и терапевтическая, и она про опору. Как мы любим говорить в архиве: наш горизонт планирования — вечность, поэтому нам всегда будет чем заниматься, несмотря на внешний контекст.
Людмила: Я вспоминаю в связи с этим недавний вопрос коллеги: «А когда вы планируете закончить этот проект?». Поскольку архив может начаться, но как будто не может закончиться, то здесь примерный ответ — скорее всего, никогда [улыбается]. И тут, конечно, нужно быть готовым к тому, что это надолго.
Экспозиция выставки «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993-2005». Фото: Даниил Анненков © Дом культуры «ГЭС-2»
Александра: Однако в какой-то момент нужно ставить точку, останавливаться, делать паузу, вылезать из архива — важно быть к этому готовым. Иначе потонуть можно.
Людмила: Мне кажется, это интересный поворот разговора: коллеги, как ставить эту точку и когда?
Мария Терехова (далее — Мария): Приведу пример архива, где точка поставлена не по желанию или решительной воле, а потому что так сложилось. Я столкнулась с этим лично, пытаясь изучать архивные материалы, связанные с моделирующими организациями, ОДМО [Прим. АРМ: Общесоюзный дом моделей одежды] и т. д. Недавно была выставка «Дом моделей. Индустрия образов» в музее Москвы [Прим. АРМ: выставка проходила с 7 марта по 2 июля 2023 года], и для нее экспозиционные материалы собирали по крупицам, в основном из частных источников.
Помимо ОДМО, стоявшего во главе иерархии, в советский период существовала система домов моделей. Я, по территориальной принадлежности, занималась Ленинградским домом моделей — он считался вторым по значимости. Судьба региональных архивов моды печальна: в 90-е годы они каким-то образом протянули, но в 2000-е окончательно исчезли.
Когда экономика перестраивалась, коллекции и библиотеки рассасывались.
Мария: Хорошо, если в момент этой аннигиляции (уничтожения) рядом оказывались неравнодушные люди из музеев. Я, как сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга, знаю, что в 2006–2007 годах подиумные коллекции Ленинградского дома моделей были спасены. При ликвидации художники-модельеры успели забрать лишь немногое: буквально кто-то шапку, кто-то сапоги. Это был настоящий кутюр — вещи высокого качества из уникальных материалов в единственном экземпляре, не говоря уже об эскизах и графике. Благодаря сотруднице нашего музея, удалось сохранить фрагменты коллекции Ленинградского дома моделей, которые теперь находятся у нас в музее.
Антонина: Точка, когда можно перейти к другому фонду — такое я себе с трудом представляю. Может быть запятая или многоточие, если мыслить форматами изданий. Приведу пример: когда я сделала книжку про архивы самоорганизации [Прим. АРМ: полное название — «Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации в России. 2000–2020»], сразу же возник вопрос про второй том: когда [он будет]? [улыбается].
Людмила: Да, кажется, что архив становится неотъемлемой частью жизни.
Светлана: Я хотела добавить, что мне это представляется не как отдельные точки и фрагменты, а как слои, которые идут параллельно: ты начинаешь работать с фондом или с каким-то периодом, как мы сейчас работали, занимаясь выставкой про период с 1993 по 2005 год. Выставка уже состоялась, но мы продолжаем разговаривать с людьми, которые были связаны с этим периодом, параллельно начиная исследовать следующий: всегда есть люди, с кем еще нужно поговорить.
Людмила: Подхватывая то, о чем говорила Мария: таких историй на самом деле очень много, и ваша — еще с относительно счастливым концом. Потому что, если, например, вспомнить историю с Общесоюзным Домом моделей на Кузнецком мосту, то там все обстоит гораздо печальнее: документы и тем более вещи собираются по крупицам. Кстати, красное платье «Россия», вошедшее в экспозицию упомянутой Марией выставки «Дом моделей» было реконструкцией, где оригинал и сохранился ли он — неизвестно.
Говоря о принципе эфемерности, думаю, вы тоже сталкиваетесь с этим в работе: очень часто на вопрос про архив, который мы задавали в рамках проекта «Архив российской моды», мы получали ответы: «утонул», «сгорел», «потерялся», «избавилась». Нужно быть готовым к тому, что иногда мы успеваем, а иногда уже нет.
Светлана: Респонденты, с кем мы говорили — дизайнеры, редакторы, модели — в процессе понимали, что они могут представить как архив. Был случай, когда уже выставка была утверждена, а дизайнер приносил новые вещи, привезенные откуда-то (к сожалению, мы уже не могли включить их в экспозицию). И вот ответ на этот вопрос — Что может храниться в архиве? Что нужно сохранять?», — широк и постоянно меняется.
Александра: Абсолютно точно, и зачастую владельцы вещей не мыслили их как архив. Парадоксально, но помню, Маша Цигаль [Прим. АРМ: российский дизайнер, основательница бренда Masha Tsigal] сказала, что она не ностальгирующий человек и не мыслит прошлым, хотя у нее один из самых больших архивов, который она воспринимает скорее как портфолио. Думаю, после выставки у многих участников отношение к этим вещам изменилось.
Валерия: Мне кажется, это еще характеристика нашего культурного кода — мы очень легко отказываемся от прошлого и не рефлексируем о нем. И с дизайнерами то же самое: они идут вперед без оглядки назад, а потом понимают, что там очень много ценного.
Экспозиция выставки «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993-2005». Фото: Даниил Анненков © Дом культуры «ГЭС-2»
Александра: Это еще и специфика их работы: они понимают, что нужно думать о настоящем, об актуальном и новых коллекциях, как привлечь новое поколение. Ко всему прочему, смотреть в прошлое не всегда комфортно.
Людмила: Да, комфорт не всегда сопровождает воспоминания, но сегодня принципы работы дизайнеров и создания коллекций меняются. Сохранение и обращение к своему архиву, даже если его нужно создать заново, стало важной частью творческого процесса.
Мы наблюдаем глобальный архивный поворот: многие интересуются редкими и не очень редкими вещами на различных платформах. Интересно обсудить, как это влияет на обычных пользователей одежды — нас всех. Как мы относимся к своим гардеробам, можем ли мы и их воспринимать как архивы? Где мы покупаем вещи? Какие дополнительные ценности ищем?
Любители винтажной одежды, как настоящие охотники, описывают свои поиски в характерных терминах. Думаю, это тоже часть большого архивного поворота, который мы переживаем.
Интересно, как это, с одной стороны, казалось бы противостоит идее моды как новой и устремленной в будущее системы ценностей, но с другой этой самой модой уже как будто успешно апроприированной и коммерциализирвоанной, поскольку это способ добавить продукту дополнительную ценность через его «архивность» или отсылки к прошлому.
Людмила: Лера, культ и бум архивных вещей и коллекций — в моде и наших повседневных практиках — для всех очевиден. Как вы думаете, почему это происходит?
Валерия: Есть, мне кажется, две причины интереса. Первая, наверное, очень прозаична — стоимость люкса невероятно растет, необоснованно по многим показателям. Если читать отчеты The Business of Fashion и других профильных изданий, стоимость люкса превышает себестоимость на какие-то страшные цифры. Многие люди не могут себе это позволить, хотя хотят, особенно те, кто интересуется. Конечно же, на ресейле это будет дешевле, более того — условная сумка Chanel из прошлого будет качественнее.
Второй момент — это эмоциональная потребность прикоснуться к прекрасному, к тому, что ты не мог когда-то себе позволить. Это я могу судить по себе. Не так давно я «урвала» сумку Chanel 2014 года — в те годы я была совсем маленькая и только начинала свой путь в журналистике, но очень мечтала, что когда-нибудь… Нет, я даже не мечтала, я просто знала, что у меня никогда не будет этой сумки. А теперь, когда она у меня есть, я обращаюсь к себе из прошлого: «Лера, посмотри».
Валерия: Мне нравится, что можно оглядываться назад и благодарить издалека, смотреть на себя из прошлого и видеть, что этот человек меня благодарит. И эта эмоциональная ценность в поисках того, что когда-то тебе было недоступно, а сейчас ты можешь к этому прикоснуться.
Но это, как вы правильно заметили, действительно хантинг (охота). Это надо искать, погружаться в дебри Avito, в дебри Oskelly, торговаться даже. Но это такой азарт! Наверное, геймификация этого процесса в том числе играет роль: процесс затягивает, и ты получаешь от него удовольствие.
Людмила: Скажите, а музейные работники прочесывают Avito и прочие платформы в поисках вещей не для себя, а, например, для каких-то проектов. Такое случается?
Мария: В государственных институциях хранитель музея концептуально развивает фонд, ведет закупочную работу, и в том числе, ищет экспонаты на платформах вроде «Авито» или зарубежных площадках, чтобы заполнить лакуны в коллекции.
Для пополнения Музейного фонда РФ необходимо составить атрибуционную карточку с подробным описанием и ссылками.
Мария: После этого Федеральная закупочная комиссия (ФЗК) из 10-15 человек внимательно изучает предмет и обоснование его приобретения. При одобрении предмету присваиваются номер по книге поступлений и инвентарный номер, и он официально становится частью Музейного фонда Российской Федерации.
Людмила: Вот видно, настрадался человек [смеется].
Мария: Извините за ироничный тон, но это неизбежная бюрократия, которая происходит в государственных институциях. В этом плане, конечно, пополнение частной коллекции, наверное, проще, и можно позволить себе такую вольность, как «А просто хочу».
Антонина: Еще есть профессиональная деформация архивистов, которые «тащат»: на любых выставках и мероприятиях собираются все возможные эфемериды — так мы называем пригласительные, афиши, буклеты, тексты к выставкам, пресс-релизы. Из них формируется фонд новых поступлений, подтверждающий документальную историю российского искусства. Пригласительный доказывает, что выставка состоялась; без него она может и не попасть в базу, со временем о ней могут забыть.
Программа Птюч-клуба с 13.06.1995 по 17.06.1995
Антонина: Кураторы архива, например Саша Обухова, и заинтересованное руководство следят за аукционами, где продают части архивов и документы, и регулярно спрашивают в рабочем чате: «Это нам нужно?». Однако из-за ограниченного числа архивистов и необходимости обработки материалов закупки и дары планируются на несколько лет вперед через закупочную комиссию.
Людмила: А есть тренды внутри архивной собирательской работы? Вот что сейчас модно архивировать?
Антонина: Современные архивы включают в себя не только документы, но еще и одежду, и какие-то предметы. Я могу сказать, когда я пришла, в архиве была одна «одежная» вещь — рубашка Кирилла Кто.
Сейчас у нас, помимо архива Мамышева-Монро с его туфлями, париками, есть архив группы ФНО — «Фабрики найденных одежд». Еще у нас хранятся костюмы и наряды Елены Ковылиной, которые участвовали в перформансах.
Людмила: Мы сегодня много говорим об архивах, даже вспоминая какие-то персоналии. Но до недавнего времени для модной общественности разговор про архивную моду был скорее разговором про зарубежную моду, западных героев, селебрити, которые выходят на красную дорожку в чем-то, что зачастую вызывает страшный скандал, как, например, нашумевший выход Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, предоставленном знаменитости Музеем Роберта Рипли. Однако наша дискуссия преимущественно посвящена российской моде и ее архивам. Как вам кажется, такого рода проекты, как «Архив российской моды», могут повысить ценность локальной моды в глазах широкого потребителя?
Светлана: У меня немного саркастический комментарий: многие, с кем мы провели интервью, говорят о том, что в России моды нет, она не сложилась, здесь нет индустрии. Повысить ценность того, чего нет, — это, в общем, наша задача [улыбается]. Потому что, с одной стороны, мы рассказываем о том, что на самом деле здесь происходило. Может быть, это происходило не по каким-то привычным западным форматам и образцам, которые все ожидают увидеть, что у нас будет такая же байерская система, как в европейской моде.
Неделя высокой моды в Москве. Из архива Виктории Андреяновой
Светлана: В России были совсем другие форматы: например, Неделя высокой моды [Прим. АРМ: фонд «Артэс» в 1994 году впервые организовал Неделю высокой моды в концертном зале «Россия»], к которой многие довольно пренебрежительно относились, считая, что это было просто шоу. Но, раскапывая информацию и разговаривая с дизайнерами, с людьми, которые организовывали этот проект и участвовали в нем, мы понимаем, что он был очень важен и для дизайнеров, и для зрителей, и для понимания того, что люди здесь что-то делали.
Валерия: Кажется, это наш культурный феномен: нам нужна верификация ценностей извне, например, из-за рубежа. У меня мама — такой маркер, человек, который не связан с модой вообще никак, она врач. Когда я рассказывала ей, что, например, в Метрополитен-музее Диана Вриланд организовала выставку русского костюма [Прим. АРМ: в 1976 году в залах Института костюма при Метрополитен-музее (Нью-Йорк) проходила выставка «Слава русского костюма»], у мамы был шок: «Им было интересно?» И ей стало это интересно: она гуглила и смотрела фотографии.
Важно, чтобы крупные игроки рынка и крупные институции обращали внимание на такие, как многие думают, несуществующие вещи — так массовый потребитель обратит на них внимание.
Валерия: По похожим причинам мама пошла со мной на выставку про архивы российской моды в ГЭС-2: если это проходит в такой большой институции, значит, это нужно изучить.
Если им дают место в крупной институции, живо освещают, поддерживают публичной программой, печатают какие-то брошюры — это верификация, галочка, что это заслуживает внимания.
Александра: Думаю, что сокураторы со мной согласятся: мы не стремились петь оды моде России 1990-х и 2000-х, но хотели понять, что это было и с чем мы работаем. Однако, когда выставляешь розовый костюм Маши Цигаль или куртку Дениса Симачева, люди переосмысляют их: «Это же было в моем гардеробе, а теперь в музее». Из-за множества утрат и пробелов мы показывали не лучшее, а то, что удалось найти. Но благодаря прекрасной архитектуре бюро NORMA все смотрелось отлично, и некоторые вещи, как корсет из ложек Андрея Шарова — самая виральная вещь выставки — были действительно интересны. Сейчас победительница LVMH Prize Эллен Ходакова тоже работает с этой темой, но, получается, Андрей опередил ее.
Корсет из гнутых ложек Андрея Шарова. Экспозиция выставки «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993-2005». Фото: Даниил Анненков © Дом культуры «ГЭС-2»
Александра: И просто даже на человеческом уровне, мне кажется, людям — комьюнити, с которым мы работали — это было важно. Они пришли на открытие, пообщались друг с другом, кто-то увидел какие-то вещи впервые за 30 лет и сказал: «Опа, это же мое!», «Ой, я помню этого человека», «С этой моделью я работал». Период, охватываемый выставкой — стремительное время, которое почти все лендеры вспоминают с очень сильной ностальгией, как время большой творческой свободы, и оно стало для них благодаря выставке более определенным, более ценным. Мне кажется, это самое главное — добавить процессам осмысленности.
Светлана: Получается, рефлексивный процесс.
Людмила: И гуманистический одновременно. У меня вопрос к Елене Ермаковишне, которая здесь в зале с нами. Мы все больше про Москву, немного про Питер, а вот Лена не так давно сделала выставку, посвященную челябинской моде того же примерно периода, и называлась она «Мода, которой нет». Лена, расскажите, что вы показали и как это все собиралось?
Елена Ермаковишна (далее — Елена): Мы столкнулись с теми же проблемами, которые вы уже озвучили, однако собирать региональный архив еще сложнее, чем столичный.
Наша выставка охватывала период с 1991 года до настоящего времени и показывала, как выстраивалась система моды на Южном Урале.
Фото экспозиции выставки «Мода, которой нет» проходила в челябинской галерее Larisa Depershmidt Art Gallery с 30 марта по 27 апреля // Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»
Елена: Это сложно, потому что Челябинск ассоциируется с индустриальным городом, и мало кто знает, что «Уралшвейпром» — огромная организация, охватывающая шесть областей в советское время, находилась именно здесь. Челябинск был вторым по выпуску продукции легкой промышленности.
В ходе исследования мы обнаружили, что многие жители имеют семейные связи с «Уралшвейпромом». Несмотря на 30 лет перестройки, новые южноуральские дизайнеры корнями уходят туда — это было интересно отразить на нашей выставке.
Людмила: Возвращаясь к вопросу о дизайнерах, связях и отсылках — не могу не задать вопрос Маше Тереховой в связи с ее работой над книгой о Вячеславе Зайцеве. Очень многие участники исследования «Архив российской моды» добрым словом вспоминали Вячеслава Михайловича и ту роль, которую он сыграл в их становлении — добрым советом или периодически шлепком, горячим словцом. Знаем ли мы что-то про архивы Зайцева и его модного дома? Можно ли до них как-то дотянуться исследователю?
Вячеслав Зайцев и Мария Тер-Маркарян в жюри первого конкурса молодых модельеров им. Н. Ламановой. Из архива Светланы Комиссаровой
Мария: В контексте неоспоримой роли и уникального места советского и российского модельера Вячеслава Зайцева ситуация с его архивами печальна. Как часто бывает с материалами советского и раннего постсоветского периода, доступ к ним затруднен, и мы не знаем точно, что в них содержится.
Однако в 2016 году в Эрмитаже прошла монографическая выставка Зайцева: часть его вещей, предметов и эскизов перешла в коллекцию музея и находится в надежных руках главного хранителя фонда костюма Нины Ивановны Тарасовой, которая прекрасно осознает их историческую ценность.
Кроме того, оригинальная графика Зайцева периодически появляется на аукционах, как в России, так и за рубежом. Его архив рассредоточен, что затрудняет работу исследователей, но это также дает возможность для приятных находок при изучении его наследия.
Людмила: Такая охота и удовольствие от исследования ни с чем не сравнится. Вообще надо отметить усилия Эрмитажа, который в последнее время стал очень активно собирать российскую моду — и не только Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, но и Светлану Тегин, и Константина Гончарова, и др.
Роль Нины Ивановны Тарасовой очень велика — она большой энтузиаст, благодаря ее энергии и продвигается признание ценности одежды конца XX века, что по-прежнему вызывают скепсис.
Мария: Тарасова отстаивает их значимость перед Советом. Бутик Babochka также передал им большую коллекцию. Это пример того, как формирование коллекции зависит от воли и концептуального видения хранителя архива.
Недавно в Эрмитажном театре была выставка новых поступлений: костюмов Константина Гончарова, включая легендарные работы из «Золотого осла» Апулея — это знаковые вещи 1990-х годов. Попадание экспоната в институции такого масштаба означает прохождение высокого ценза, что является положительным признаком продолжающегося процесса.
В Русском музее подобные процессы тоже происходят, хотя и в меньшем масштабе. Например, Екатерина Андреева, ведущий научный сотрудник музея, активно продвигает это направление.
Светлана: Архивы дизайнеров часто распределены между владельцами одежды. На нашей выставке было платье Вячеслава Зайцева от Анны Лебсак-Клейманс. Это специфика модных архивов — они разрознены среди носителей. Когда мы спрашивали у Марии Смирновой (бренд Inshade) и Марии Цигаль, почему нет именно одежных архивов, они отвечали: «Мы все продавали. Хотели, чтобы это носили, буквально снимали с себя последнее для покупателя». Никто не думал о хранении образцов.
Фото с выставки «Строгий юноша» // Источник: Эрмитаж
Светлана: Образцы сохраняют для производства, но после часто все распродается на sample sale. Пока нет внешней верификации, дизайнеры не будут собирать архивы. Возможно, этот процесс как раз начинается.
Валерия: Вспомнила недавний пример: как оказалось, I AM STUDIO, достаточно массовый бренд, проводил конкурс в своих соцсетях в связи с тем, что у них есть архив и они готовы победителю в конкурсе отшить что-нибудь из архива то, что он захочет. «Приходите к нам в архив, выберите модель, которая вам понравилась, и мы ее готовы отшить». Получается, какие-то бренды уже подходят к тому, чтобы сохранять архивы. И этот подход сейчас даже транслируют в социальных сетях как ценность: у нас был и есть, и остается архив.
Мария: Мне кажется, это как раз-таки признак того, что какая-никакая индустрия все-таки есть. Потому что это профессиональный подход. Люди, создавая какую-то ситуативную моду just for fun, в кураже этих тусовок, клубов, рейв-вечеринок в 1990-е, даже в страшном сне не могли представить, что это может потом осесть в каких-то институциях.
Антонина: Хочу добавить, что это специфика всех архивов: они между кем-то распределены.
Это не только в моде происходит, у нас случались прямо детективные истории с поисками, когда люди не помнили, куда что-то делось.
Фотография из архива Марии Смирновой
Людмила: Архив на самом деле задает вот эту рамку детективного расследования, где ты по крупицам собираешь улики и как-то их интерпретируешь, читаешь знаки, распутываешь сети.
Валерия: А как популяризировать архивные и вообще модные выставки и привлекать массового потребителя?
У меня был такой случай: никогда бы не подумала, что куплю каталог Бруклинского музея, но он был про выставку «Christian Dior: Designer of Dreams», созданный художницей Катериной Джебб (Katerina Jebb) — исключительно красивый благодаря ее участию.
Хотя я не ярый фанат Dior, эти работы, где фрагментарно сканируются части тела и составляется цельное изображение, впечатляют. Думаю, это один из способов привлечь потребителя, создавая поддержку выставки через оформление экспозиции и каталога — возникает своего рода экосистема.
Людмила: Каталог — это отдельная история, потому что обычно у кураторов все силы уходят на то, чтобы сделать выставку, а каталог делается уже потом или не делается вовсе.
Экспозиция выставки «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993-2005». Фото: Даниил Анненков © Дом культуры «ГЭС-2»
Александра: Некоторые архивы заслуживают отдельных каталогов. Когда мы работали над буклетом к выставке, коллега-дизайнер, глядя на фото одного из архивов, сказал: «Боже, хочу сделать книгу только про него». Речь шла об архиве Марии Смирновой (бренда Inshade и художественной группы «В тени»).
По поводу привлечения внимания к выставке стоит отметить аудиозаписи интервью, которые все еще можно послушать на сайте ГЭС-2. Выставка «Здесь были мы: архивы российской моды» прошла, но интервью остались. В плейлистах собраны ключевые моменты, но можно услышать от первых лиц об атмосфере времени, проектах, тусовках — это важный архивный слой.
Светлана: Да, мы как архив в основном работаем с интервью. Нам было важно, чтобы на выставке прозвучали эти голоса, ведь эмоции людей многое говорят о периоде.
Мария: К вопросу о популяризации: как экспозиционер, хочу отметить: чтобы сделать материал интересным, нужно вызывать эмоции. Инструменты для этого — использование прямой речи, устных историй, цитат. Человечность важна, потому что на одних умных мыслях далеко не уедешь, особенно в выставке. Человеку нужен человек, и абстрактные идеи оживают с появлением прямой речи.
Это важно и для книг: сейчас я пишу книгу про обувь для серии журнала «Теория моды» и решила включить личные истории, потому что теория, разбавленная живыми голосами из прошлого, интереснее и ценнее.
Светлана: За любым архивом стоит человек, и это очень важно доносить до людей, которые приходят смотреть эти архивы.
Антонина: Когда мы делали выставки про самоорганизации, то показывали обычные фото 10×15 см. Интерес был в том, что люди узнавали себя или друзей, что привлекало посетителей. Мы также сделали выставку про поэтов Холина и Сапгира. Неофициальные художники дружили с поэтами и иллюстрировали их книги. Мы собрали детские книги с их иллюстрациями, создали детскую зону и крутили мультфильм «Паровозик из Ромашково», что привлекало посетителей.
Людмила: Подозреваю, что на выставке в Челябинске такого узнавание случалось не раз?
Елена: Особенно когда мы делали параллельную программу и приглашали экспертов из Дома моделей — они были так довольны, что не могли расстаться. Хотела добавить о личных историях: проводя экскурсии, я рассказывала о конкретных людях — это очень увлекает зрителей, им интересно больше, чем просто смотреть на экспонаты.
Выставка «Мода, которой нет» проходила в челябинской галерее Larisa Depershmidt Art Gallery с 30 марта по 27 апреля // Источник фото: Хорошие новости
Елена: Мы организовали пешую экскурсию по центру города, охватывая три пласта 30-летней истории. У нас было 5 групп по 20 человек, экскурсии пользовались огромной популярностью. Это отлично работало, и так мы подводили гостей к выставке: «А у вас в билет входит посещение выставки», и они ее смотрели.
Светлана: Хотела сказать, что на выставках люди узнавали себя благодаря фотографиям. Даже если конкретного человека нет на фото, на выставках про моду люди говорят: «Ой, я это носил», «Я ходил в этот клуб», «У меня был этот журнал», «Я обожал „Птюч“» и т. д. Люди ностальгируют, это часть их жизни или жизни их родителей, что создает эмоциональную привязанность к тому периоду.
Александра: Подтверждаю, что на нашу выставку в ГЭС-2 приходила разная публика — подростки, молодежь, семьи, люди возраста моих родителей и старше. Каждый находил свой интерес: кто-то знал людей, кто-то интересовался искусством или клубной жизнью, а мода была дополнением.
Массовому посетителю пока нужно доказывать, что мода достойна быть показанной, но сомнений в интересе к ней нет — и выставка это подтвердила. Туда тропа не зарастала весь этот месяц, без ложной скромности скажу.
Людмила: Да, кажется, что человеку нужен не только человек, но и выставки о моде, которые в силу своего предмета (одежды, опыт ношения которой есть у всех нас) имеют это человеческое расширение [улыбается].
Читайте другие материалы архива ↓
Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media