
«Бажов-фест», 2016
Как-то художник Шабуров ехал по Москве и тут в окно ему заглянула странная рогатая женщина. Рядом было написано её имя — Малефисента.
Шабуров подумал: кого она ему напоминает? И понял: Хозяйку Медной горы из сказов уральского писателя Бажова о подземных мастерах-камнерезах и окружающих их древних чудищах.
Так почему же, подумал Шабуров, мы восторгаемся заграничными Средиземьем, Нарнией и Спрингфилдом и не экспортируем в ответ свои мифологические вселенные?
Например, того же Бажова. Ведь это наш Гомер, Толкин, Маркес, Кастанеда и Гиляровский в одном лице. Почему Свердловская киностудия не штампует боевики «Золотой полоз против Годзиллы» или «Бабка Синюшка против японской мафии»?
Чтобы реализовать данный подход Шабуров позвонил директору Уральского филиала ГЦСИ Алисе Прудниковой, и они организовали «Бажов-фест».
До этого ГЦСИ раз в два года проводил Уральскую индустриальную биеннале на тему заводов и урбанистики. А теперь стал проводить ещё «Бажов-фест» для художников, работающих с этнографией и антропологией.
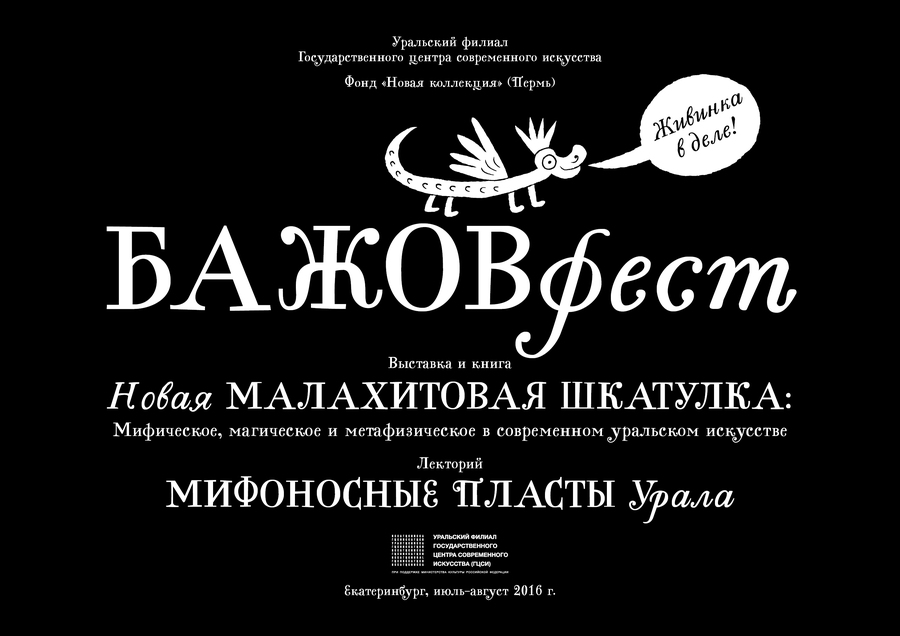
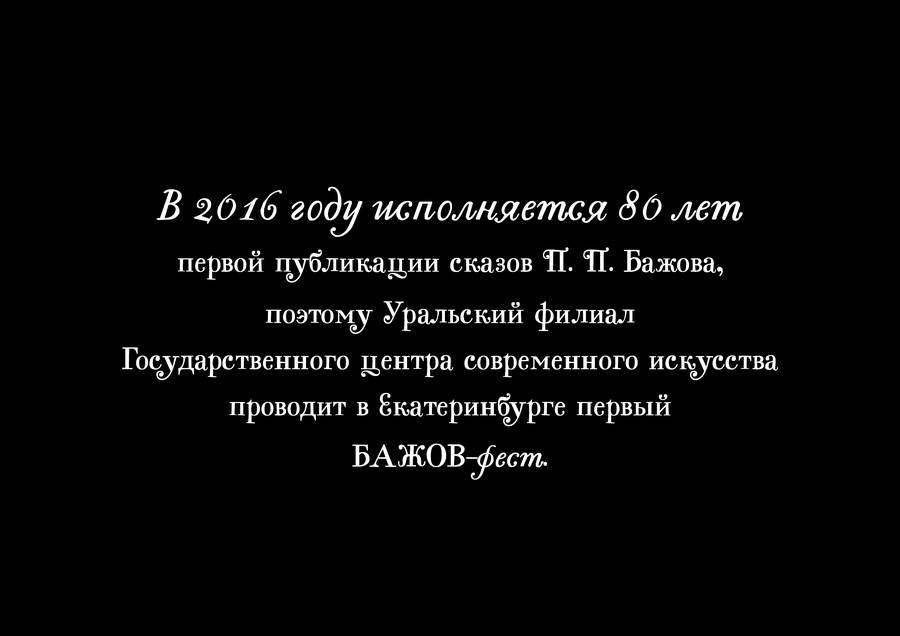
БАЖОВ-ФЕСТ-2016 НОВЫЕ УРАЛЬСКИЕ МИФОЛОГИИ Новые уральские герои. Новые уральские чудеса. Новые уральские чудища
В год 80-летия первой публикации сказов Бажова Уральский филиал Государственного центра современного искусства проводит в Екатеринбурге первый «БАЖОВ-ФЕСТ». Писатель П. П. Бажов (1879–1950) — уральский Гомер, Маркес, Толкиен и Гиляровский в одном лице. Автор уральской горнозаводской мифологии, магического реализма и физиологических очерков. Однако мы к нему привыкли и видим в нём мало интересного.
Цель «БАЖОВ-ФЕСТА» и выставки «НОВАЯ МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» — новые интерпретации сказов П. П. Бажова, собрание уральских мифов новейшего времени, соединение современного искусства с фольклором и этнографией. Раз в 2 года ГЦСИ проводит Индустриальную биеннале, где художественно осмысляется легенда о заводском Урале, «самой индустриализированной точке планеты». А теперь взялся разрабатывать более древние мифоносные пласты Урала, намереваясь превратить его в самую мифогенную точку Земли.
Александр Шабуров КАКОЙ БАЖОВ НАМ НУЖЕН?
Как-то я ехал по улице и увидел афишу голливудского фильма «Малефисента» с Анджелиной Джоли в образе некой рогатой феи. Подумал: кого она мне напоминает, и понял — это же вылитая Хозяйка Медной горы! И выходит, прочие фантастические существа из подземного мира, описанные П. П. Бажовым, — собратья хоббитов Дж. Р. Толкина.
Почему же мы не эксплуатируем свои региональные мифы? Почему не переводим их на язык современного искусства, молодёжных субкультур и фан-сообществ? Отчего Свердловская киностудия до сих пор не заполонила мир уральскими фэнтези «Властелин Рифейских гор», «Подземные тайны-2» или «Золотой полоз против Годзиллы»?
Надо признать, когда я сам жил на Урале, сказы Бажова казались нам местечковой этнографической белибердой, источником сюжетов для туристических сувениров из поделочных камней, не более того, и не вызывали у молодых художников особого интереса.
Почему?
Традиции визуальной интерпретации уральских мифов задали в 1960–70-е гг. замечательные свердловские художники Г. С. Мосин, В. М. Волович, Г. С. Метелёв и др., которые — в отличие от предшественников — стали переносить образы сказов в свои станковые и монументальные произведения.
Это был важный выбор.
Бажовская мифология основывалась не на этническом, а на цеховом фольклоре. В центре бажовской картины мира — творец, ремесленник-мастеровой, умеющий создавать что-то уникальное. Испокон века на Урале сосуществовали представители разных народностей, национальные различия не были значимы. Это необыкновенно важный опыт, квинтэссенция существования многонациональной и многоконфессиональной страны.
Каноническими иллюстрациями к Бажову стали линогравюры В. М. Воловича (1959–1963), которые удобно переносились на любые носители. На те же сувениры. На многих уральских турбазах и в пионерских лагерях можно было увидеть его Данилу-мастера и Хозяйку Медной горы, перерисованных по квадратам.
Однако в позднем СССР образ труженика утратил былую значимость. А вскоре новым классом-гегемоном стала буржуазия. Мастера-ремесленники уступили роль общественного идеала олигархам и интердевочкам. Бажовская тема наскучила, и следующие поколения художников перестали привносить в её интерпретацию что-то новое. Даже визуально это было неинтересно.
Родившийся в г. Берёзовский Г. С. Мосин знал, как выглядит интерьер традиционной уральской избы или типичный женский наряд — юбка с «фанбарой», а кофта с «баской». Это был чувственный для него мир и актуальный антураж.
Но художники, выросшие в «хрущёвках», перерисовывали то же самое уже по инерции. Персонажи изображались в одинаковых валенках и тулупах (или косынках и передниках) на фоне типовых пейзажей.
Переосмыслить Бажова, перенести его героев в наши дни или по-иному актуализировать его никто не пытался. Таинственный бажовский мир экстраординарных рукотворных созданий и невидимых посторонним инфернальных существ стал приевшимся клише.
Надо сказать, что у нас и прежде не очень ценили то, что лежит под ногами. В провинции всегда больше любили столичное или иностранное — оттого парикмахерские называли «Марселями», а кафе «Куршевелями». По примеру каслинских литейщиков прошлого века художники копировали западные образцы и модные тренды. И если кто-либо, как герой «Чугунной бабушки» В. Торокин, начинал делать что-то самобытное, далеко не сразу встречал понимание.
В литературе то же самое — куда больше Бажова нас привлекал магический реализм Г. Г. Маркеса, художественная антропология К. Кастанеды, фантастические миры Дж. Р. Толкина или К. Льюиса (если вспоминать близкие ему жанры).
И только отдалившись ото всего этого, ты начинаешь понимать, что западных художников на Западе и без нас хватает. Уральскому специалисту по Энди Уорхолу не о чем рассказать в США, там своих таких предостаточно. Надо иметь за душой хоть что-то своё. Только уметь делать это интересным другим. А для этого помещать локальное в глобальный контекст. Переводить свой опыт на понятные вовне языки, интернациональные культурные коды и технологии…
Перечитав Бажова, я удостоверился, что он — действительно выдающийся писатель. Уральский Гомер. Не только создавший свою мифологическую вселенную, не хуже Маркеса и Толкиена, но и неповторимый язык, основанный на местном народном говоре.
Осознаём мы это или нет, но мы выросли на Бажове, точно так же, как на А. Гайдаре и А. С. Пушкине. А гротескные бажовские персонажи, нарисованные Г. С. Мосиным, на полвека опередили похожих пучеглазых существ из мультфильмов Тима Бёртона.
Но самым интересным для меня оказался 3-й том собрания сочинений Бажова —физиологические очерки «Уральские были» о жизни разных сословий — о барах, рабочих, служащих, заводских, приисковых, кустарях, «исконных», «заправилах», «спичечниках», «чернознаях», заводском быте, драках, «расчётах по мелочишкам» и пр. Все мы имеем весьма приблизительное представление о том, как жили наши бабушки и дедушки, а у Бажова это описано подробно и просто.
Цель нашего проекта — преодолеть инерцию восприятия бажовской темы.
Но как это сделать? Как избежать повторения общих мест?
Неудачный пример культивирования местной специфики можно увидеть, скажем, в Перми. На каждом углу там встречаются реплики «пермского звериного стиля» (на самом деле встречающегося по всей территории расселения финно-угров). Такое перерисовывание без переосмысления выглядит куда хуже первоисточника.
Наш основной приём — парадокс. Неожиданные сопоставление несоединимых обычно предметов и явлений. Расширение контекста. Бажов и киношные спецэффекты, Бажов и компьютерные игры, Бажов и манси, Бажов и рептилоиды, Бажов и Ельцин, Бажов и опера.
Наш метод — соединение современных технологий с мифическими, фольклорными и этнографическими сюжетами. Обновление современного искусства путём прививки ему элементов волшебства, фантастики и метафизики.
Наша цель — сбор новых городских мифов, создание новых уральских сказов, новых арт-этнографии и арт-картографии. А в целом — арт-антропология, художественное исследование того, как живут люди. Чем и должно заниматься искусство.
НОВАЯ МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА Разделы выставки
Новые портреты Бажова и интерпретации его сказов. Если сравнить Бажова с зарубежными аналогами, можно отыскать в нём много необычного, а в его сказах обнаружить незамеченный доселе потенциал. Как нам скрестить всё это с новейшими видами искусства? Как осовременить и актуализировать? Чем занять бажовских героев в наши дни? Где бы они нам встретились и что б из этого вышло? Как изобразить Бажова с помощью пустых бутылок, Малахитовую шкатулку из гречки, Синюшкин колодец из палочек, а остальные сказы из белых и зелёных кружков?
Новые наследники Данилы-мастера. Данила-мастер пытался выразить свои смутные видения в формах, способных удивить весь мир. И феномен Бажова — в том, что, опираясь на локальные предания, он создал мифологию, воспринимаемую в самом широком контексте. Тем же самым занимались и многие провинциальные художники — пытались перевести свои неясные томления (так называемую «хтонь») на новомодные художественные языки (кубизм, сюрреализм, символизм, всяческий постмодернизм, перформансы с инсталляциями).
Новые сказы. Новые герои, чудища и чудеса. Сказ — это пересказанная история с архетипическими или мифологическими мотивами. Бажов писал свои сочинения привычным ему разговорным языком о современниках. Поэтому и нам не нужно пускаться в стилизацию под XIX век. Безусловно, с тех пор многое изменилось. Фольклор и народное творчество переместились в интернет, ютуб и инстаграм. Там и надо исследовать, какие герои характерны для современного мегаполиса? Какие верования и предрассудки поселились в их головах? С какими фантастическими существами они сталкиваются? В какие таинственные ситуации попадают? Наконец, отчего погибла группа Дятлова и зачем распилили Шигирский идол?
Новые арт-мифологии. Многие художники (не только на Урале) сочиняют свои мифы, создают своих мифологических персонажей и населяют ими свои вселенные. Среди них: Даблоиды, Стомаки, Живущие в хоботе, Тагры, Человек-собака, летающий Лис, уральский супермен Иван Жаба, Ихтиандр Ботанического района и много чего ещё.
- Новые арт-этнография и арт-картография. Не смотря на то, что никакой особой «уральской идентичности» не существует, местную специфику и региональный туризм никто не отменял. Поэтому художники осваивают городские пространства, работают с топонимикой и этнографией, создают граффити и путеводители, придумывают новые достопримечательности и сувениры — памятник Компьютерной клавиатуре и Индрик-зверю, а также уральские шахматы Нёркирдык. Кроме того в окрестных лесах до сих пор обитают Шурале, Шульген, Шишига, Кудым-Ош, Мир-сусне-хум, Тулпар, Ягморт, Золотая баба, дивы, пери, менквы и полчища иных сказочных тварей, которые тоже ждут своих описателей.
По окончании выставки будет издана книга-каталог «Новая Малахитовая шкатулка».